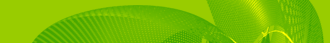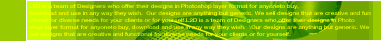Митина любовь (продолжение два)
XXI
На другой день в саду не работали, был праздник, воскресенье.
Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, сад то и дело бледно, но широко,
сказочно озарялся. К утру, однако, погода опять разгулялась, опять все стало
просто и благополучно, и Митю разбудил веселый, солнечный трезвон колоколов.
Он не спеша умылся, оделся, выпил стакан чаю и пошел к обедне. "Мама уж
ушли, - ласково упрекнула его Параша, - а вы как татарин какой..."
В церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и
свернув направо, или через сад, по главной аллее, а потом по дороге между садом
и гумном, налево. Митя пошел через сад.
Все было уже совсем по-летнему. Митя шел по аллее прямо на солнце, сухо
блестевшее на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон колоколов, как-то очень
хорошо и мирно сливавшийся с ним и со всем этим деревенским утром, и то, что
Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глянцевитые черные волосы и надел
студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не
спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнородных
мыслей и чувств, вдруг охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех
его терзаний, на спасение, освобождение от них. Колокола играли и звали, гумно
впереди жарко блестело, дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро
бежал вверх по корявому стволу липы в ее светлозеленую, солнечную вершину,
бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались в цветы на полянах, на
припеке, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно... Все было, как
бывало много, много раз в детстве, в отрочестве, и так живо вспомнилось все
прелестное, беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что бог
милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати.
"В самом деле, поеду к Мещерским", - подумал вдруг Митя.
Но тут он поднял глаза - и в двадцати шагах от себя увидал как раз в этот
момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом розовом
платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками.
Она, виляя задом, быстро шла, не видя его, и он порывисто подался в сторону, за
деревья.
Дав ей скрыться, он, с бьющимся сердцем, поспешно пошел назад, к дому. Он
вдруг понял, что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее, и то, что видеть ее
в церкви нельзя, не надо.
Во время обеда нарочный со станции привез телеграмму - Аня и Костя
извещали, что будут завтра вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно.
После обеда он навзничь лежал на плетеном диване на балконе, закрыв
глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, слушая летнее жужжанье мух.
Сердце дрожало, в голове стоял неразрешимый вопрос: а как же дальше дело с
Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера
прямо: согласна ли она, и, если да, то где и когда? А рядом с этим мучило
другое: следует или нет нарушить свое твердое решение не ездить больше на почту?
Не съездить ли нынче еще раз, последний? Новое и бессмысленное издевательство
над своим собственным самолюбием? Новое и бессмысленное терзание себя жалкой
надеждой? Но что может теперь прибавить эта поездка (в сущности, простая
прогулка) к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в
Москве, для него все и навеки кончено? Что ему вообще теперь делать?
- Барчук!- раздался вдруг негромкий голос возле балкона. - Барчук, вы
спите?
Он быстро открыл глаза. Перед ним стоял староста в новой ситцевой рубахе,
в новом картузе. Лицо у него было праздничное, сытое, и слегка сонное, хмельное.
- Барчук, едемте скорей в лес, - зашептал он. - Я барыне сказал, что мне
нужно повидаться с Трифоном насчет пчел. Едемте скорей, пока они почивают, а то
ну-ка проснутся и отдумают... Захватим чего-нибудь угостить Трифона, он
захмелеет, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленке. Выходите
скорей, я уж запрег...
Митя вскочил, пробежал лакейскую, схватил картуз и быстро пошел к
каретному сараю, где стоял запряженный в беговые дрожки молодой горячий
жеребчик.
Жеребчик прямо с места вихрем вынес за ворота. Против церкви на минуту
остановились возле лавки, взяли фунт сала и бутылку водки и понеслись дальше.
Мелькнула изба на выезде, у которой стояла наряженная и не знавшая, что
делать, Анютка. Староста в шутку, но грубо крикнул ей что-то и с хмельным,
бессмысленным и злым удальством крепко передернул вожжами, хлестнул ими по крупу
жеребчика. Жеребчик еще наддал.
Митя, сидя и подскакивая, держался изо всех сил. В затылок ему приятно
пекло, в лицо тепло дуло полевым жаром, пахнувшим уже зацветающей рожью,
дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно
какой-то чудесный мех, зыбью, над ней поминутно взвивались, пели, косо неслись и
падали жаворонки, далеко впереди мягко синел лес...
Через четверть часа были уже в лесу и все так же шибко, стукаясь о пни и
корки, помчались по его тенистой дороге, радостной от солнечных пятен и
несметных цветов в густой и высокой траве по сторонам. Аленка, в своем голубом
платье, прямо и ровно положив ноги в полусапожках, сидела в распускающихся возле
караулки дубках и вышивала что-то. Староста пролетел мимо нее, погрозив ей
кнутом, и сразу осадил у порога. Митю поразил горький и свежий аромат леса,
молодой дубовой листвы, оглушил звонкий лай собачонок, окруживших дрожки и
наполнивших весь лес откликами. Они стояли и яростно заливались на все лады, а
мохнатые морды их были добры и хвосты виляли.
Слезли, привязали жеребчика к сухому, опаленному грозой деревцу под
окнами и вошли через темные сени.
В караулке было очень чисто, очень уютно и очень тесно, жарко и от
солнца, светившего из-за леса в оба ее окошечка, и оттого, что была натоплена
печь, - утром пекли ситники. Федосья, свекровь Аленки, чистенькая и
благообразная на вид старушка, сидела за столом, спиной к солнечному, усыпанному
мелкими мушками окошечку. Увидав барчука, она встала и низко поклонилась.
Поздоровавшись, сели и стали закуривать.
- А где ж Трифон? - спросил староста.
- Отдыхает в клети, - сказала Федосья, - я сейчас пойду его покличу.
- Идет дело! - шепнул староста, моргнув обоими глазами, как только она
вышла.
Но никакого дела Митя покуда не видел. Покуда было только нестерпимо
неловко, - казалось, что Федосья уже отлично понимает, зачем они приехали. Опять
мелькала ужасавшая уже третий день мысль: "Что я делаю? Я с ума схожу!" Он
чувствовал себя лунатиком, покоренным чьей-то посторонней волей, все быстрее и
быстрее идущим к какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь
иметь простой и спокойный вид, он сидел, курил, осматривал караулку. Особенно
стыдно было при мысли, что сейчас войдет Трифон, мужик, как говорят, злой,
умный, который сразу все поймет еще лучше Федосьи. Но вместе с тем была и другая
мысль: "А где же она спит? Вот на этих нарах или в клети?" Конечно, в клети,
подумал он. Летняя ночь в лесу, окошечки в клети без рамы, без стекол, и всю
ночь слышен дремотный лесной шепот, а она спит...
Трифон, войдя, тоже низко поклонился Мите, но молча, не взглянув ему в
глаза. Потом сел на скамейку перед столом и сухо и неприязненно заговорил со
старостой: в чем дело, зачем пожаловал? Староста поспешил сказать, что его
прислала барыня, что она просит Трифона прийти посмотреть пасеку, что ихний
пасечник старый, глухой дурак, а что он, Трифон, может, первый пчеловод во всей
губернии но своему уму и понятию, - и немедля вытащил из одного кармана штанов
бутылку водки, а из другого сало в шершавой серой бумаге, уже насквозь
промаслившейся. Трифон холодно и насмешливо покосился, однако поднялся с места и
достал с полки чайную чашку. Староста поднес сперва Мите, потом Трифону, потом
Федосье, - она с удовольствием вытянула чашку до донышка, - и, наконец, налил
себе. Выпив, он тотчас же стал обносить по второй, жуя ситник и раздувая ноздри.
Трифон довольно быстро захмелел, однако не потерял своей сухости и
неприязненной насмешливости. Староста тяжко отупел после второй же чашки.
Разговор принял по внешности характер дружеский, но глаза у обоих были
недоверчивые, злобные. Федосья сидела молча, смотрела вежливо, но недовольно.
Аленка не показывалась. Потеряв всякую надежду, что она придет, ясно видя, что
это совершенно дурацкая мечта - рассчитывать теперь на то, что старосте удастся
шепнуть ей "словечко", если бы она даже и пришла, - Митя поднялся и строго
сказал, что пора ехать.
- Сейчас, сейчас, успеется! - хмуро и нагло отозвался староста. - Мне еще
надо вам словечко по секрету сказать.
- Ну вот дорогой и скажешь, -сказал сдержанно, но еще строже Митя. -
Едем.
Но староста хлопнул ладонью по столу и с пьяной загадочностью повторил:
- А я вам говорю, что дорогой этого нельзя говорить! Выйдите ко мне на
минутку...
И, тяжко поднявшись с места, распахнул дверь в сенцы.
Митя вышел за ним.
- Ну, в чем дело?
- Молчите! - таинственно прошептал староста, притворяя за Митей дверь и
шатаясь.
- Об чем молчать?
- Молчите.
- Я тебя не понимаю.
- Молчите! Наша будет! Верное слово!
Митя оттолкнул его, вышел из сенец и остановился на пороге, не зная, что
делать: подождать еще немного или уехать одному, а не то просто уйти пешком?
В десяти шагах от него стоял густой зеленый лес, уже в вечерней тени и
оттого еще более свежий, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за
его вершины, сквозь них лучисто сыпалось его червонное золото. И вдруг гулко
раздался и прокатился в глубине леса, где-то, как показалось, далеко на той
стороне, за оврагами, женский певучий голос, и так призывно, так очаровательно,
как звучит он только в лесу, по летней вечерней заре.
- Ау! - протяжно крикнул этот голос, видимо, забавляясь лесными
откликами. - Ау!
Митя соскочил с порога и побежал по цветам и травам в лес. Лес спускался
в каменистый овраг. В овраге стояла и ела баранчики Аленка. Митя надбежал на
обрыв и остановился. Она снизу глядела на него удивленными глазами.
- Что ты тут делаешь? - спросил Митя негромко.
- Маруську нашу с коровой ищу. А что? - ответила она тоже негромко.
- Что ж, придешь, что ли?
- Что ж мне даром ходить? - сказала она.
- Кто ж тебе сказал, что даром? - спросил Митя уже почти шепотом. - Об
этом не беспокойся.
- А когда? - спросила Аленка.
- Да завтра... Ты когда можешь?
Аленка подумала.
- Я завтра пойду к матери овцу стричь, - сказала она, помолчав, осторожно
оглядывая лес на бугре за Митей. - Вечером, как стемнеет, и приду. А куда? На
гумно нельзя, зайдет кто-нибудь... Хочете, в салаш в лощине у вас в саду? Только
вы смотрите, не обманите, - даром я не согласна... Это вам не Москва, - сказала
она, засмеявшимися глазами глядя на него снизу, - там, говорят, бабы сами
плотят...
Возвращались безобразно.
Трифон не остался в долгу, поставил и с своей стороны бутылку, и староста
так напился, что не сразу сел на дрожки, сперва упал на них, а испуганный
жеребчик рванулся и чуть не ускакал один. Но Митя молчал, смотрел на старосту
бесчувственно, ждал, пока он усядется, терпеливо. Староста опять гнал с нелепой
яростью. Митя молчал, крепко держался, смотрел на вечернее небо, на поля, быстро
дрожавшие и прыгавшие перед ним. Над полями к закату допевали свои кроткие песни
жаворонки, на востоке, уже посиневшем к ночи, вспыхивали те дальние, мирные
зарницы, которые ничего не обещают, кроме хорошей погоды. Митя понимал всю эту
вечернюю прелесть, но теперь она была совсем чужой ему. В мыслях, в душе стояло
одно: завтра вечером!
Дома его ожидало известие, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и
Костя будут завтра, с вечерним поездом. Он ужаснулся, - приедут, побегут вечером
в сад, могут побежать к шалашу, в лощину... Но тотчас же вспомнил, что со
станции их привезут не раньше десятого часа, потом будут кормить, поить чаем...
- Ты поедешь встречать? - спросила Ольга Петровна, Он почувствовал, что
бледнеет.
- Нет, не думаю... Мне что-то не хочется... Да и сесть негде...
- Ну, положим, ты бы мог верхом поехать...
- Да нет, не знаю... Собственно, зачем? Сейчас, по крайней мере, не
хочется...
Ольга Петровна пристально посмотрела на него.
- Ты здоров?
- Совершенно, - сказал Митя почти грубо. - Я только спать очень хочу...
И тотчас же ушел к себе, лег в темноте на диван и заснул, не раздеваясь.
Ночью он услыхал отдаленную, медлительную музыку и увидал себя висящим
над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела,
становилась все бездоннее, все золотистей, все ярче, все многолюднее, и уже
совсем отчетливо, с несказанной грустью и нежностью, зазвучало и запело в ней:
"Жил, был в Фуле добрый король..." Он затрепетал от умиления, повернулся на
другой бок и опять заснул.
День казался бесконечным.
Митя как деревянный выходил к чаю, к обеду, потом опять шел к себе и
опять ложился, брал с письменного стола уже давно валявшийся на нем том
Писемского, читал, не понимая ни слова, подолгу смотрел в потолок, слушал
ровный, летний, атласный шум солнечного сада за окном... Раз он встал и пошел в
библиотеку, чтобы переменить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своим
спокойствием, видом из одного окна на заветный клен, а из других на светлое
западное небо комната так остро напомнила ему те весенние (теперь уж бесконечно
далекие) дни, когда он сидел в ней, читая стихи в старых журналах, и показалась
такой Катиной, что он повернулся и быстро пошел назад. "К черту! - подумал он с
раздражением. - К черту весь этот поэтический трагизм любви!"
Он с возмущением вспомнил свое намерение застрелиться, если не будет
письма от Кати, и опять лег и опять взялся за Писемского. Но по-прежнему он
ничего не понимал, читая, а порою, глядя в книгу и думая об Аленке, весь начинал
дрожать от все растущей дрожи в животе. И чем ближе подходил вечер, тем все чаще
охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворе, - уже запрягали
тарантас на станцию, - все раздавалось так, как во время болезни, когда лежишь
один, а вокруг течет обычная, будничная жизнь, равнодушная к тебе и потому
чуждая, даже враждебная. Наконец где-то крикнула Параша: "Барыня, лошади
готовы!" - послышалось сухое бормотание бубенчиков, потом топот копыт, шорох
подкатывающего к крыльцу тарантаса... "Ах, да когда же все это кончится!" -
пробормотал Митя вне себя от нетерпения, не двигаясь, но жадно слушая голос
Ольги Петровны, отдававшей в лакейской последние приказания. Вдруг бубенчики
забормотали и, бормоча все слитнее под звуки покатившегося под гору экипажа,
стали глохнуть...
Быстро встав с места, Митя вышел в зал. В зале было пусто и светло от
ясного желтоватого заката. Во всем доме было пусто и как-то странно, страшно
пусто! Со странным, как бы прощальным чувством Митя взглянул в пролет
растворенных молчаливых комнат - в гостиную, в диванную, в библиотеку, в окно
которой по-вечернему синел южный небосклон, зеленела живописная вершина клена и
розовой точкой стоял над ней Антарес... Потом заглянул в лакейскую, нет ли там
Параши. Убедившись, что и там пусто, он схватил с вешалки картуз, пробежал
назад, в свою комнату, и выскочил в окно, далеко выкинув на цветник свои длинные
ноги. На цветнике он на мгновение замер, потом, согнувшись, перебежал в сад и
тотчас же вильнул в глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акации и
сирени.
Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечернего
сада. Но Мите, при всей бессознательности всех его действий в этот вечер, все же
показалось, что он еще никогда в жизни, - за исключением, может быть, раннего
детства, - не встречал такой силы и такого разнообразия запахов, как теперь. Все
пахло - кусты акации, листья сирени, листья смородины, лопухи, чернобыльник,
цветы, трава, земля...
Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью: "А вдруг она обманет, не
придет?" - теперь казалось, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет
Аленка, - уловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма
откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: вечерний
жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и
сумерки, но еще светло было от зари, охватившей полнеба своим ровным, долго не
гаснущим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видной из-за
деревьев, высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой и острый серпок
только что народившегося месяца. Митя глянул на него, быстро и мелко
перекрестился под ложечкой и шагнул в кусты акации. Аллея вела в лощину, но не к
шалашу, - к нему надо было идти наискось, взять левее. И Митя, шагнув через
кусты, побежал целиком, среди широко и низко распростертых ветвей, то нагибаясь,
то отстраняя их от себя. Через минуту он уже был на условленном месте.
Он со страхом сунулся в шалаш, в его темноту, пахнущую сухой прелой
соломой, зорко оглянул его и почти с радостью убедился, что там еще никого нет.
Но роковой миг близился, и он стал возле шалаша, весь превратясь в чуткость, в
напряженнейшее внимание. Весь день почти ни на минуту не оставляло его
необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно
- как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его
всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце, однако, билось страшно.
А кругом было так поразительно тихо, что он слышал только одно - это биение.
Беззвучно, неустанно вились, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в
серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе, и от
этих мотыльков тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и завораживали
ее. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло и звук этот как гром поразил его.
Он порывисто обернулся, глянул меж деревьев по направлению к валу - и увидал,
что под сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успел он
сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то
широкое движение - и оказалось Аленкой.
Она откинула, сбросила с головы подол короткой юбки из черной самотканой
шерсти, и он увидал ее испуганное и сияющее улыбкой лицо. Она была боса, в одной
юбке и в простой суровой рубахе, заправленной в юбку. Под рубахой стояли ее
девичьи груди. Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть плечей, а
засученные выше локтя рукава - округлые руки. И все в ней, от небольшой головки,
покрытой желтым платочком, и до маленьких босых ног, женских и вместе с тем
детских, было так хорошо, так ловко, так пленительно, что Митя, видевший ее до
сих пор только наряженной, впервые увидавший ее во всей прелести этой простоты,
внутренне ахнул.
- Ну, скорее, что ли, - весело и воровски прошептала она и, оглянувшись,
нырнула в шалаш, в его пахучий сумрак.
Там она приостановилась, а Митя, стиснув зубы, чтобы удержать их стук,
поспешил запустить руку в карман - ноги его были напряжены, тверды, как железо,
- и сунул ей в ладонь смятую пятирублевку. Она
быстро спрятала ее за пазуху и села на землю. Митя сел возле нее и обнял
ее за шею, не зная, что делать, - надо ли целовать или нет. Запах ее платка,
волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма, - все было
до головокружения хорошо, и Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то
же, что и раньше: страшная сила телесного желания, не переходящая в желание
душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа, она откинулась и
легла навзничь. Он лег рядом, привалился к ней, протянул руку. Тихо и нервно
смеясь, она поймала ее и потянула вниз.
- Никак нельзя, - сказала она не то в шутку, не то серьезно. Она отвела
его руку и цепко держала ее своей маленькой рукой, глаза ее смотрели в
треугольную раму шалаша на ветви яблонь, на уже потемневшее синее небо за этими
ветвями н неподвижную красную точку Антареса, еще одиноко стоящую в нем. Что
выражали эти глаза? Что надо было делать? Поцеловать в шею, в губы? Вдруг она
поспешно сказала, берясь за свою короткую черную юбку:
- Ну, скорей, что ли...
Когда они поднялись, - Митя поднялся, совершенно пораженный
разочарованием, - она, перекрывая платок, поправляя волосы, спросила оживленным
шепотом, - уже как близкий человек, как любовница:
- Вы, говорят, в Субботино ездили. Там поп дешево поросят продает. Правда
ай нет? Вы не слыхали?
На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с
утра и до вечера, лил как из ведра.
Он то и дело припускал в этот день особенно бурно и мрачно.
И весь день Митя без устали ходил по саду и весь день так страшно плакал,
что порой даже сам дивился силе и обилию своих слез.
Параша искала его, кричала на дворе, в липовой аллее, звала обедать,
потом чай пить - он не откликался.
Было холодно, пронзительно сыро, темно от туч; на их черноте густая
зелень мокрого сада выделялась особенно густо, свежо и ярко. Налетавший от
времени до времени ветер свергал с деревьев еще другой ливень - целый поток
брызг. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимания, его белый картуз
повис, стал темно-серый, студенческая куртка почернела, голенища были до колен в
грязи. Весь облитый, весь насквозь промокший, без единой кровинки в лице, с
заплаканными, безумными глазами, он был страшен.
Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллей, а порой
просто куда попало, целиком, по высокой мокрой траве среди яблонь и груш,
натыкаясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо-зеленым размокшим
лишайником. Он сидел на разбухших, почерневших скамейках, уходил в лощину, лежал
на сырой соломе в шалаше, на том самом месте, где лежал с Аленкой. От холода, от
ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми,
смертельно-бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он
лежал на спине, положив нога на ногу, а руки под голову, дико уставившись в
черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его
стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из
кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное
вчера поздно вечером, - привез землемер, по делу приехавший в усадьбу на
несколько дней, - и опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:
"Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я
дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я
решилась, жребий брошен, я уезжаю - вы знаете, с кем... Вы чуткий, вы умный, вы
поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мне ничего, это бесполезно!"
Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую
солому, бешено стискивая зубы, захлебывался от рыданий. Это нечаянное ты,
которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их
близость и заливало сердце нестерпимой нежностью, - это было выше человеческих
сил! А рядом с этим ты - это твердое заявление, что даже писать ей теперь
бесполезно! О, да, да, он это знал: бесполезно! Все кончено и кончено навеки!
Перед вечером дождь, обрушившийся на сад с удесятеренной силой и с
неожиданными ударами грома, погнал его наконец в дом. Мокрый с головы до ног, не
попадая зуб на зуб от ледяной дрожи во всем теле, он выглянул из-под деревьев и,
убедившись, что его никто не видит, пробежал под свое окно, снаружи приподнял
раму, - рама была старинная, с подъемной половиной, - и, вскочив в комнату,
запер дверь на ключ и бросился на кровать.
И стало быстро темнеть. Дождь шумел повсюду - и по крыше, и вокруг дома,
и в саду. Шум его был двойной, разный, - в саду один, возле дома, под
непрерывное журчание и плеск желобов, ливших воду в лужи, - другой. И это
создавало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, необъяснимую
тревогу и вместе с жаром, которым пылали его ноздри, его дыхание, голова,
погружало его точно в наркоз, создавало какой-то как будто другой мир, какое-то
другое предвечернее время в каком-то как будто чужом, другом доме, в котором
было ужасное предчувствие чего-то.
Он знал, он чувствовал, что он в своей комнате, уже почти темной от дождя
и наступающего вечера, что там, в зале, за чайным столом, слышны голоса мамы,
Ани, Кости и землемера, но вместе с тем уже шел по какому-то чужому дому вслед
за уходившей от него молодой нянькой, и его охватывал необъяснимый, все растущий
ужас, смешанный, однако, с вожделением, с предчувствием близости кого-то с
кем-то, близости, в которой было что-то противоестественно-омерзительное, но в
которой он и сам как-то участвовал. Чувствовалось же все это через посредство
ребенка с большим белым лицом, которого, перегнувшись назад, несла на руках и
укачивала молоденькая нянька. Митя спешил обогнать ее, обогнал и уже хотел
заглянуть ей в лицо, - не Аленка ли это, - но неожиданно очутился в сумрачной
гимназической классной комнате с замазанными мелом стеклами. Та, что стояла в
ней перед комодом, перед зеркалом, не могла его видеть, - он вдруг стал невидим.
Она была в шелковой желтой нижней юбке, плотно облегающей округлые бедра, в
туфельках на высоких каблучках, в тонких ажурных черных чулках, сквозь которые
просвечивало тело, и она, сладко робея и стыдясь, знала, что сейчас будет. Она
уже успела спрятать ребенка в ящик комода. Перекинув косу через плечо, она
быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядела в зеркало, где отражалось ее
припудренное личико, обнаженные плечи и млечноголубые, с розовыми сосками,
маленькие груди. Дверь распахнулась - и, бодро и жутко оглядываясь, вошел
господин в смокинге, с бескровным бритым лицом, с черными и короткими курчавыми
волосами. Он вынул плоский золотой портсигар, стал развязно закуривать. Она,
доплетая косу, робко смотрела на него, зная его цель, потом швырнула косу на
плечо, подняла голые руки... Он снисходительно обнял ее за талию - и она
охватила его шею, показывая своя темные подмышки, прильнула к нему, спрятала
лицо на его груди...
И Митя очнулся, весь в поту, с потрясающе ясным сознанием, что он погиб,
что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней,
за могилой. В комнате была тьма, за окнами шумело и плескалось, и этот шум и
плеск были нестерпимы (даже одним своим звуком) для тела, сплошь дрожащего от
озноба. Всего же нестерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность
человеческого соития, которое как будто и он только что разделил с бритым
господином. Из залы были слышны голоса и смех. И они были ужасны и
противоестественны своей отчужденностью от него, грубостью жизни, ее
равнодушием, беспощадностью к нему...
- Катя! - сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги. - Катя, что
же это такое! - сказал он вслух, совершенно уверенный, что она слышит его, что
она здесь, что она молчит, не отзывается только потому, что сама раздавлена,
сама понимает непоправимый ужас всего того, что она наделала. - Ах, все равно,
Катя, - прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь
бы она по-прежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись, - спасти
свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так
недавно был подобен раю. Но, прошептав: "Ах, все равно, Катя!" - он тотчас же
понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что
дано было ему когда-то в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не
может быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь.
Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он
делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного -
хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он
провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех
земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и
тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с
наслаждением выстрелил.
14 сентября 1924
Приморские Альпы.
Москва, 1915
|