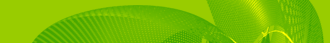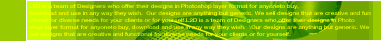Стихотворения Арсения Несмелова
В сочельник
Нынче ветер с востока на запад,
И по мерзлой маньчжурской земле
Начинает поземка, царапать
И бежит, исчезая во мгле.
С этим ветром, холодным и колким,
Что в окно начинает стучать,-
К зауральским серебряным елкам
Хорошо бы сегодня умчать.
Над российским простором промчаться,
Рассекая метельную высь,
Над какой-нибудь Вяткой иль Гжатском,
Над родною Москвой пронестись.
И в рождественский вечер послушать
Трепетание сердца страны,
Заглянуть в непокорную душу,
В роковые ее глубины.
Родников ее недруг не выскреб:
Не в глуши ли болот и лесов
Загораются первые искры
Затаенных до сроков скитов,
Как в татарщину, в годы глухие,
Как в те темные годы, когда
В дыме битв зачиналась Россия,
Собирала свои города.
Нелюдима она, невидима.
Темный бор замыкает кольцо.
Закрывает бесстрастная схима
Молодое, худое лицо.
Но и ныне, как прежде, когда-то,
Не осилить Россию беде.
И запавшие очи подняты
К золотой Вифлеемской звезде.
Цареубийцы
Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладон жжем,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идем.
Бережем мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но заслали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?
Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься, -
Государя не отстоять?
Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными - сто сорок
Миллионов себя звало.
Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни,
Не за всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни
И один ли, одно ли имя,
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.
И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь!
Баллада о Даурском бароне
К оврагу,
где травы рыжели от крови,
где смерть опрокинула трупы на склон,
папаху надвинув на самые брови,
на черном коне подъезжает барон.
Он спустится шагом к изрубленным трупам,
и смотрит им в лица,
склоняясь с седла, -
и прядает конь, оседающий крупом,
и в пене испуга его удила.
И яростью,
бредом ее истомяся,
кавказский клинок,
- он уже обнажен, -
в гниющее
красноармейское мясо, -
повиснув к земле,
погружает барон.
Скакун обезумел,
не слушает шпор он,
выносит на гребень,
весь в лунном огне, -
испуганный шумом,
проснувшийся ворон
закаркает хрипло на черной сосне.
И каркает ворон,
и слушает всадник,
и льдисто светлеет худое лицо.
Чем возгласы птицы звучат безотрадней,
тем,
сжавшее сердце,
слабеет кольцо.
Глаза засветились.
В тревожном их блеске -
две крошечных искры.
два тонких луча...
Но нынче,
вернувшись из страшной поездки,
барон приказал:
Позовите врача!
И лекарю,
мутной тоскою оборон,
( шаги и бряцание шпор в тишине),
отрывисто бросил:
Хворает мой ворон:
увидев меня,
не закаркал он мне!
Ты будешь лечить его,
если ж последней
отрады лишусь - посчитаюсь с тобой!..
Врач вышел безмолвно,
и тут же в передней,
руками развел и покончил с собой.
А в полдень,
в кровавом Особом Отделе,
барону,
- в сторонку дохнув перегар -
сказали:
Вот эти... Они засиделись:
Она - партизанка, а он - комиссар.
И медленно,
в шепот тревожных известий, -
они напряженными стали опять, -
им брошено:
на ночь сведите их вместе,
а ночью - под вороном - расстрелять!
И утром начштаба барону прохаркал
о ночи и смерти казненных двоих...
А ворон их видел?
А ворон закаркал? -
барон перебил...
И полковник затих.
Случилось несчастье! -
он выдавил
( дабы
удар отклонить -
сокрушительный вздох), -
с испугу ли, -
все-таки крикнула баба, -
иль гнили объевшись, но...
ворон издох!
Каналья!
Ты сдохнешь, а ворон мой - умер!
Он,
каркая,
славил удел палача!...
От гнева и ужаса обезумев,
хватаясь за шашку,
барон закричал:
Он был моим другом.
В кровавой неволе
другого найти я уже не смогу! -
и, весь содрогаясь от гнева и боли,
он отдал приказ отступать на Ургу.
Стенали степные поджарые волки,
шептались пески,
умирал небосклон...
Как идол, сидел на косматой монголке,
монголом одет,
сумасшедший барон.
И шорохам ночи бессоной внимая,
он призраку гибели выплюнул:
Прочь!
И каркала вороном -
глухонемая,
упавшая сзади,
даурская ночь.
-----------------------
Я слышал:
В монгольских унылых улусах,
ребенка качая при дымном огне,
раскосая женщина в кольцах и бусах
поет о бароне на черном коне...
И будто бы в дни,
когда в яростной злобе
шевелится буря в горячем песке, -
огромный,
он мчит над пустынею Гоби,
и ворон сидит у него на плече.
Переходя границу
Пусть дней не мало вместе пройдено,
Но вот не нужен я и чужд,
Ведь вы же женщина - о Родина! -
И, следовательно, к чему ж
Все то, что сердцем в злобе брошено,
Что высказано сгоряча:
Мы расстаемся по-хорошему,
Чтоб никогда не докучать
Друг другу больше. Все, что нажито,
Оставлю вам, долги простив, -
Все эти пастбища и пажити,
А мне просторы и пути.
Да ваш язык. Не знаю лучшего
Для сквернословий и молитв,
Он, изумительный, - от Тютчева
До Маяковского велик.
Но комплименты здесь уместны ли, -
Лишь веждивость, лишь холодок
Усмешки, - выдержка чудесная
Вот этих выверенных строк.
Иду. Над порослью - вечернее
Пустое небо цвета льда.
И вот со вздохом облегчения:
Прощайте, знаю: Навсегда.
СУВОРОВСКОЕ ЗНАМЯ
Отступать! -- и замолчали пушки,
Барабанщик-пулемет умолк.
За черту пылавшей деревушки
Отошел Фанагорийский полк.
В это утро перебило лучших
Офицеров. Командир сражен.
И совсем молоденький поручик
Наш, четвертый, принял батальон.
А при батальоне было знамя,
И молил поручик в грозный час,
Чтобы Небо сжалилось над нами,
Чтобы Бог святыню нашу спас.
Но уж слева дрогнули и справа, --
Враг наваливался, как медведь,
И защите знамени -- со славой
Оставалось только умереть.
И тогда, -- клянусь, немало взоров
Тот навек запечатлело миг, --
Сам генералиссимус Суворов
У святого знамени возник.
Был он худ, был с пудреной косицей,
Со звездою был его мундир.
Крикнул он: "За мной, фанагорийцы!
С Богом, батальонный командир!"
И обжег приказ его, как лава,
Все сердца: святая тень зовет!
Мчались слева, набегали справа,
Чтоб, столкнувшись, ринуться вперед!
Ярости удара штыкового
Враг не снес; мы ураганно шли,
Только командира молодого
Мертвым мы в деревню принесли...
И у гроба -- это вспомнит каждый
Летописец жизни фронтовой, --
Сам Суворов плакал: ночью дважды
Часовые видели его.
|